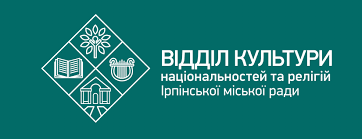Одним із найскладніших та драматичніших періодів історії Ірпеня був період громадянській війни, якій отримав ще одну назву – «Україно – більшовицька війна».
Незважаючи на те, що історія Києва широко освічує цю тему, повної інформації про події, що відбувалися на теренах Ірпеня у нас не має. Навіть місць поховань загиблих військових встановити поки не вдалось.
За часів громадянської війни в Ірпені відома лише одна братська могила комсомольців, які загинули в 1918 році. Сіра невелика стела, що знаходиться на ірпінському кладовищі, є беззаперечним свідком цих далеких подій.
Приірпіння було ареною військових дій більшовиків, білогвардійців та військ УНР.
Если бы в списке всевозможных мировых рекордов, фиксируемых в разнообразных областях человеческой деятельности, присутствовала категория «скорость смен власти», Киев мог бы смело претендовать на первенство. За 39 месяцев, с марта 1917 по июнь 1920 года, власть менялась 14 раз – быстрее, чем раз в три месяца…» — так писав Стефан Машкевич у своїй книзі «Два дня из жизни Киева. 30-31 августа 1919»
Можна тільки уявити, в яких складних умовах опинилися люди, які не емігрували, а залишилися в своїх домівках.
З 1918 року у Ворзелі жив відомий письменник того часу, автор багатьох романів з історії революційного руху, офіційний біограф В’ячеслава Молотова – Сергій Мстиславський.
Цікавим штрихом з біографії Мстиславського є і той факт, що він брав безпосередню участь в арешті російського царя Миколи II та його родини. Так З.Маркович у книзі « Пять дней. Начало и конец февральской революции» (Москва, 1922р.) згадував:
Как известно, исполком, узнав, что Временное Правительство намерено, под видом ареста, эвакуировать царскую фамилию в Англию, постановил арестовать Николая ІІ и всю его семью. Для выполнения этой миссии был уполномочен Мстиславский.Приехав с отрядом в царское и проделав длинную канитель переговоров со стражей, ссылавшийся все время на генерала Корнилова и не желавшей никого допускать во дворец, Мстиславский, однако, проявил достаточную твердость и, объявив ошеломленным офицерам охраны об аресте царя Исполнительным комитетом, потребовал «предьявления» ему Николая, дабы он лично убедился в его пребывании во дворе. Добиться этого было очень трудно (церемониймейстер, граф Бенкендерф, чуть не лишился дара слова, когда ему сообщили об этом требовании)…
Після арешту Миколи ІІ, Сергій Дмитрович Мстиславський відмовляється від посади комісара по утриманню під вартою членів родини імператорської сім’ї та самого Миколи ІІ.
Мстиславський був членом радянської делегації в Брест-Литовську під час підписання Брестського миру. Після вбивства Мирбаха вийшов із партії лівих есерів і став членом ЦК українських боротьбистів.
В 1920-х роках Сергій Мстиславський написав книгу «Деникинцы на Украине», у якій розділ «Занятие Киева большевиками» присвячено подіям громадянської війни, що розгорталися на наших землях у 1919 році.
Спогади Мстиславського є безцінним матеріалом. Вони дають нам змогу більше знати про цей період в історії нашого міста.
Із спогадів Сергія Мстиславського:
Еще 28 ноября, пользуясь продвижением добровольцев к Бородянке, я решил съездить в Ворзель, на несколько часов, где жила семья, и ознакомиться, поскольку будет возможно, с расположением добровольцев на Ирпенском участке. По наведенным на вокзале справкам – поезда назначались до Ворзеля, иные даже до Немешаева, по бюллетеням наступление добровольцев к Бородянке развивалось успешно: словом, нужно было рассчитовать свободно обернуться в один день.
28-го поезда однако не ходили: не было топлива. Только 29-го, на рассвете, удалось погрузиться в ремонтный поезд, который должен был, по утверждению начальника станции, дойти по меньшей мере до Немешаева.
Шли относительно быстро. На перегоне к Беличам (последняя станция перед Ирпенским мостом) прошел по вагонам глухой слух, что в Беличах поезд остановиться. Пассажиры «дальнего следования» ( на Ирпень, Бучу, Ворзель) заволновались. Слух оказался правильным: В Беличах нас высадили…
Погорячились, посудачили, поругали как водится и железнодорожное и всякое иное начальство, двинулись к Ирпеню пешком: версты на две, не меньше, растянулся караван, как верблюды нагруженных людей: ведь весь Заирпенский участок был долго отрезан от Киева: железнодорожники и иные спешили использовать возобновление связи, подвезти оставшимся на линии и в заирпенских дачных поселках семьям провиант из Киева, за время большевистской оккувации, по слухам, на Ковельской линии было с продовольствием очень туго.
День, как на грех, солнечный, люди изнывают под кладью, но стараються не отступать от тех, кто идет, как я, налегке. Не доходя Ирпенского моста, попадается офицер – доброволец. Попросил закурить. Спрашиваю «как дела». – «Все хорошо. Был маленький прорыв на Бучу, но его уже ликвидировали. «Наши подходят к Бородянке, к обеду, надо думать, займут. Если так – успею обернуться и пешком.
По дороге, кое-где, слабые добровольческие посты. На самом мирном положении: без оружия, лущат семечки, просят газеты и папиросы. Через мост пропускают свободно. Правее моста, на самой реке, глухо и напряженно, словно огромным молотом по закутанной наковальне, бьют редкие размеренные удары. Дежурный железнодорожник разъясняет: « Инженеры рвут лед на Ирпене».
На том берегу – охрана в полной безопасности: ружья составлены, солдаты бродят кое-где, впрочем трудно как-то и называть «солдатами» этих мальчуганов: старше 17 лет, кажется, среди них нет ни одного.
На спуске под откосом кучка казаков гребут сено из огромного развороченного стога. У стога, на тропе, разметав руки, лежат ничком двое, в одном белье и без сапог.
Идущая передо мною баба крестится, украдкою, «хоть бы в сторону куда убрали».
Волокущие сено казаки переступают через лежащих. Тут только я замечаю, что нога одного из них повернута пяткой под прямым углом к голени, и сквозь прорванное белье желтеет острым изломом кость.
«Почитай третью неделю лежат, — вздыхает баба. – С последнего красноармейского приступа».
Подходили к станции Ирпень. Из-за поворота, кутаясь в дым, серо-зеленый добровольческий броневик. Стопорит не доходя платформы, на которой почему-то не видно ни души. Присматриваешься: у самой станции на ровном настиле шпал крутым резким отгибом поднимаются над полотном зазубрившиеся концы взорванных рельсов. Причина остановки в Беличах сразу становится понятной.
Но ведь прорыв ликвидирован. И выстрелов не слышно, и броневик так мирно попыхивает своей, тяжелыми щитами огороженной трубой. После минутного колебания «караван» трогается дальше, отгибаясь влево, в сторону от полотна, через Яблоновку, для сокращения пути.
В Яблоновке нас встречает неведомо как обогнавшая нас весть: через мост перестали пропускать, красные наступают на Ворзель, Ирпень и Бучу.
Мы оказываемся между двух огней. Останавливаемся – обсудить положение. От моста запыхавшись бегут какие-то люди: оказывается, беженцы из Бучи: пытались спастись в Киеве, но пропуска действительно нет, спешат теперь обратно, чтобы, спаси бог, не застали на дороге большевики. Уж если так случилось, — надо сделать вид, что они не собирались уходить, к таким советские власти снисходительны.
Попасть в данный момент в расположение наших, оказаться отрезанным от Киева в самый час его падения – меня меньше всего устраивает. Но поскольку назад уже нельзя – приходиться идти вперед, в Ворзель.
***
Идем через лес, дальним обходом, минуя Бучу, ладясь в отрез между Рубежовкой. Стала слышна артиллерийская стрельба. Опять попались навстречу бегущие люди из Ворзеля – он уже занят красными. Мы утешили их сообщением, что путь отступления им отрезан. Растеренные на смерть, они поворачивают, уже врассыпную, пробираясь через перелески, обратно, к ворзельской околице. С ними сворачиваю и я, забирая круто вправо, наскоро, к железнодорожному полотну, с которого частой дробью стучат выстрелы.
Они смолкли раньше, чем я добрался сквозь лес до шлагбаума. На пути никого. Я направляюсь к станции, осторожно пробираюсь вдоль закрытого кустами и деревьями на этом участке полотна, мимо полуразрушенных заборов, брошенных наглухо заколоченных дач.
Не прошел и десятка шагов — из-за кустика показались два всадника. Винтовки поперек седла, на поясе ручные гранаты. Никаких сомнений «наши».
Подъезжают неторопливо. – «Откуда?» — «Из Киева». – «Белые в Бучи есть?» — «Не знаю, шел через Яблоновку. В Яблоновке нет».
Тронули лошадей.
Но тот час же им в угон рассыпались по кустам, по заборам торопливым почеркиванием пуль задорожная пулеметная дробь.
Разъезд соскочил с лошадей, ища прикрытия. Я прижался к впадине выломанных ворот, выжидая, когда пронесется этот неведомо откуда набежавший шквал свинца…
К счастью пулемет умолкает. Переждав еще немного, парни мои садятся в седла, и мы расстаемся друзьями: они идут вперед, в направлении на Бучу, я продолжаю путь к станции. Через несколько шагов однако снова тот же слух, беспощадный треск, и опять лежат срезанные ветки, и я припадаю за выступ ближайшей стены…
Наконец добираюсь до станции. Она кипит людьми. На платформе люди в боевых ремнях, с биноклями, полевыми сумками: очевидно какой- нибудь штаб. Прохожу стороной – красноармейцы окликают меня несколько раз, но не задерживают. Все те же вопросы: откуда, есть ли в Буче добровольцы. Документов не спрашивают.
Семью застал целой и невредимой – но зато сад, и сама дача… От нее к железнодорожному полотну, близ которого она расположена, добровольцы вырыли, во время боев за Ворзель, пулеметные окопы, по окопам этим били – три красных броне-поезда. В итоге массивная на каменной кладке ограда нашего сада разбита вдребезги: деревья в саду перекалечены или вовсе повалены снарядами: шрапнельные стаканы валяются по земле. В самую дачу попал только один снаряд, пробив крышу и стену одной из комнат. Он ушел под пол, не разорвавшись: семья была в этот момент в соседней комнате рядом, так что никто не пострадал.
Минут через десять после моего прихода – за садом – у полотна, взметнув дерн, лег снаряд, очевидно со стороны Рубежовки. А вслед за тем по окрестному лесу застучали ружейные выстрелы. Добровольцы перешли в контратаку.
Три дня – переходил Ворзель из рук в руки. Каждое утро красные занимали его, и каждый вечер – отходили снова. Каждое утро, чуть начинал брезжить свет, по нашему саду надвигались с той стороны полотна, из леса словно тени, чуть переступая, ружья на-изготовку, крались передовые цепи. Час спустя, медленно, нащупывая перед собой каждый шаг, проползали мимо наших окон красные броневики.
В первый день их было три, на второй, в самом начале боя белые подожгли снарядом один из них – самый слабый по бронировке.
Он промчался мимо нас, к Немешаевке полным ходом, волоча объятые огнем платформы.
Позиция броневиков, состязавшихся с добровольческой артиллерией, стоявшей в Рубежевке, тянулась как раз от нашего дома до станции: на этом участке обычно перекатывались – взад и вперед – броневики, стреляя через наши головы перекидным огнем. Не раз при стрельбе их орудия брали слишком низкий прицел, и снаряды «резали» сосны у нас в саду: по счастию для нас снаряды часто не рвались. Были моменты, когда схватки перемещались непосредственно на наш участок, и солдаты, то добрармейские, то красной армии стреляли из-за углов нашего дома, из-за колодца во дворе избитого пулями. А к вечеру три дня подряд – под самыми окнами нашими, снова оттягиваясь назад, за полотно, в лес, красноармейцы оттаскивали на шинелях раненых.
На четвертый день прошедшая по утру цепь не вернулась. За соседним парком, на просеке, целый день, до заката, неумолчно стучали пулеметы. В ночи мы узнали: Ворзель окончательно укреплен за советскими.
А на утро пришла из Рубежовки «бабуся», носившая молоко нашим, и рассказала, что добровольцы ушли, наконец из Рубежовки, что перебито их не счесть: на всем поле, что между Рубежовкой и Ворзелем – трупы, трупы. И на просеке ниже: здесь большевики поймали под перекрестный огонь наступавшую колонну противника и скосил ее почти всю. По лесу, по дорожкам ворзельским, по полотну стреляные гильзы валяются целыми кучами. Ну, и дрались же!
До самых сумерек стрельбы не было: пошел к коменданту станции, справиться о Киеве: соседи говорили, что он уже взят.
У платформы стоял какой-то состав. Часовой, дежуривший у заднего вагона, подозрительно покасился на меня, офицерского покроя тулуп :он хранился на даче, и я поспешил сменить на него свое штатское «подпаленное» пальто). Коменданта не оказалось – я вновь подошел к составу, узнать, не прошел ли комендант в какой-либо вагон. Часовой окликнул меня. Чувствуя себя уже «прежним», «надпольным», восстановленным в моих советских званиях, я, не отвечая ему на вопрос, спросил, что это за поезд.
Часовой потребовал предъявление документов: я в ответ предложил провести меня к комиссару поезда.
Он ввел меня в один из ближайших вагонов, наполненный красноармейцами, и я оказался под арестом.
Выяснилось, что минут 15 до моего прихода на станцию прибегала какая-то девочка, сообщившая, что в Ворзеле только что видали двух офицеров. В связи с этим мой весма офицерский вид возбудил подозрение. На беду комиссара не оказалось: выехал на позиции. До его возвращения выход из вагона был мне запрещен.
Советских документов или чего-либо вообще удостоверяющего мою личность при мне не было…
И в первый раз за эти дни шевельнулась мысль – о возможности крупных осложнений «если меня обыщут раньше времени»: ведь мы на линии боя, только что заняли Ворзель, возбуждение не слегло еще, а при таких условиях – легка быстрая, горячая расправа.
Комиссара пришлось дожидаться часа три: время прошло в беседе с красноармейцами: поезд, в который я попал, оказался базой бронепоездов. Армейцы охотно рассказывали о прошлых боях – и меня поражала та спокойная уверенность в конечной победе, которая сказывалась в каждом слове, в каждом жесте их. После «Деникинской паники» — нахорохоренности «адъютантов» и бредовских стонов, так оживляюще действовала эта бодрая ясность полуголодных и полуодетых «своих».
На станцию пришла жена, догадавшись, что я попал в переделку: она принесла с собой свои советские документы, запрятанные на даче. Поэтому ее, задержав было, отпустили. Но, зачесть документы эти удостоверением моей личности отказались наотрез…
Комиссар наконец приехал. Меня провели, уже под конвоем, в его вагон…
Мстиславського в невдовзі звільнили, він повернувся до Києва. У нього була ще довга дорога життя. Помер в 1943 році під час евакуації в Іркутську. Встановити, де знаходилася дача Мстиславського у Ворзелі поки що не вдалося.