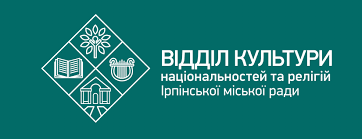Имя режиссера Александра Столярова известно широкому зрителю благодаря фильму «Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами».
Некоторые критики ставят эту ленту в один ряд с такими картинами, как «Чудо» Александра Прошкина или «Остров» Павла Лунгина. Однако ее автор не считает себя звездой и уж тем более не требует от зрителя безоговорочного признания. По мнению Александра, любой фильм создается для того, чтобы после его просмотра у зрителя осталось ощущение неудовлетворенности своим нынешним положением, чтобы он начал искать нечто большее, чем окружающие его видимые вещи.
О служении режиссера, его главных переживаниях и о том, как снять хорошее «немассовое» кино, Александр Столяров рассказал читателям журнала «ФОМА в Украине».

— Как пришла идея снять фильм о старце Паисии?
— У нас появилось столько «ультраправославных» товарищей, что я, имея печальный опыт общения с ними, порою просто уставал от того понимания святости, которое они предлагали. В итоге я решил написать свой портрет святого, взяв за основу биографию старца Паисия Святогорца.
Вы, например, попадали в такие ситуации? Когда говорят: «Александр, а ты Бога не узришь». «Почему?» — спрашиваю и получаю ответ: «Сердце у тебя не чисто». Да, разумеется, не чисто! Но я верю, что наши грехи, если у нас есть стремление быть с Богом, не могут полностью заслонить собою Небо. Об этом я и решил снять фильм.
Идея ленты возникла от обиды и одиночества. Вообще, все хорошие вещи, по?моему, возникают от отчаянья, одиночества, обиды, а не от полноты любви. Я днем работал, подрабатывал на семью, а по ночам сидел, читал биографии реального Паисия и писал. Это был тот случай, когда «даешь себе установку на добро», чтобы каждый эпизод был светлым. Это непередаваемые чувства — когда видятся и диалоги, и атмосфера, и состояние, и мизансцены. Я видел картину целиком, даже смерть героя явно ощущал. Так и родился сценарий фильма в далеком 2002 году.
— А почему сняли только через десять лет?
— Его долго не хотели брать в работу, хоть я предлагал сценарий всем, кого знал. Мне везде говорили, что тема никакого отношения к кинематографу не имеет. В конце концов журнал «Кино» взял и опубликовал сценарий. Моих героев, что называется, увидели. Но опубликовать?то опубликовали, но толку от этого тоже никакого не было. А потом появился Сергей Шумаков*. Он смог сделать невозможное — моим сценарием заинтересовался телеканал «Культура».
При этом Сергей мне сразу сказал: «Я могу дать тебе бюджет четырехсерийного документального кино. У меня здесь нет игрового кино. Выкрутишься?» А куда деваться? Начал я выкручиваться. Первый, с кем выкрутился, — это владыка Иона (Черепанов)**, который дал мне декорации роскошные и артистов для массовых сцен. С костюмами мне помог мой духовник, игумен Пафнутий (Мусиенко), он в Киево-Печерской лавре подвизается. Я прихожу и говорю: мне нужна монашеская одежда. Он мне выдал из монастырской кладовой самые поношенные подрясники, скуфейки, мантии. Так мы и обзавелись реквизитом.
— Надо полагать, съемки такого фильма — необычный процесс?
— Необычными они были с самого начала. Во-первых, актерами, исполнившими роли второго плана, стали моя жена, друзья, знакомые, родственники. Цинично говоря, это все, кому можно мало платить, потому что много платить я не мог. Две недели я поснимал, потом попал в больницу с сердечным приступом. За всё надо платить… Во-вторых, как?то сразу стало ясно, что святость старца Паисия и вообще святость как таковую нужно передавать иными приемами, отличными от сложившихся в массовом кинематографе. В итоге, когда я уже заканчивал монтаж, ко мне приехал грек, который был у старца Паисия. Он посмотрел отснятые кадры и заметил, что святость логике не поддается. И тогда во мне окрепла уверенность, что сценарий создан в правильном русле. Мы потом много спорили с москвичами, которые финансировали фильм, правильно ли он снят. Меня укоряли в отсутствии драматургии, но им так и не удалось изменить мое отношение к ленте. Как оказалось, это было промыслительно.
— То есть драматургия в фильме не нужна? Но разве любой фильм — это не драматургия?
— Нет. Мы разучились понимать драматургию. Современное кино с большой натяжкой можно назвать подлинно драматичным. Потому что настоящая драматургия — это не сюжет, а раскрытие героя, раскрытие резкое и полное. Сейчас же, начиная с начала XX века, нам предлагают суррогат.
— Поясните, пожалуйста.
— Да всё просто. Начиная от древних греков до нашего дня, рядовая драматургия не соответствует жизни человека. Она вся плотская, хочешь или не хочешь, в лучшем случае — душевная.
Кстати, эту проблему сто лет назад осознали символисты. Они вдруг сказали: «Ребята, что ж такое, почему у нас единство времени, места и действия?» А где наши предчувствия, сны, мысли, страхи? Это же наша жизнь! А мы ее чаще всего не фиксируем ни в стихах, ни в прозе, ни в кино. Куда вставишь эмоции? Сны еще можно как-то вживлять в драматургию — вспомним призрак отца Гамлета. Может, потому Шекспир и был таким новатором. А куда девать предчувствия? Как быть с теми чувствами, которые возникают между людьми и никак не описываются? Оказывается, есть столько всего. Поэтому любому режиссеру нужно искать способы выражения не душевного, а именно духовного уровня бытия, которое почти неописуемо. Обычными средствами этого не достичь, поэтому нужно мыслить неординарно.
Плотскую драматургию освоить легко. По сути — это Ромео и Джульетта, мальчик—девочка, полюбили—убили. Ветхий Завет — плотская драматургия. Если мы на него будем смотреть, как на драматургию.
Душевную драматургию очень хорошо освоил советский кинематограф. Поэтому некоторые батюшки впадают в раж и начинают говорить, что в советском кинематографе было больше православия, чем в сегодняшнем. Они в чем?то правы. От советских драм слезы у всех градом. Все плачут. Но мы должны идти дальше. Ведь есть духовная литература? Есть. Есть духовная поэзия? Есть. Значит, и драматургия обязана быть.
— Знаете, это легко объяснить. Душевный уровень более понятен человеку. В лабиринтах же духовных интуиций и прозрений споткнуться и заблудиться можно…
— Ну и отлично…
— С другой стороны: те, кто жили жизнью духа, были действительно харизматическими личностями. Я к тому, что духовный уровень далеко не всем доступен…
— Эти личности были живые! Они честно шли вперед, что?то находили. И не боялись. А у нас, у большинства людей, увы, какой?то жуткий комплекс выработался — злое отношение к стране, к Богу, к людям. Плохой у нас президент, плохие у нас чиновники, плохое у нас все. А ведь все иначе. Не все так плохо! Просто человека подсадили, инфицировали, и он проживает уже не свою жизнь, а ту, которую ему навязали извне. И тратит годы на ропот вместо того, чтобы по?настоящему жить.
— На всех уровнях действует человеческая личность, которая может быть и душевной и духовной. Разные грани одного целого. А как, по?вашему, эти грани почувствовать? Где начинается духовное?
— Духовность — это дар Святого Духа. Он дается свыше. Иногда смотришь на человека — ну дурак дураком, а святой…
Однажды к нам приехала белорусский режиссер Галина Адамович с одной монахиней по имени Татьяна. Глазищи — лучезарнейшие, всё у нее получается. Смотришь… и понимаешь, что это — от Бога и что тебе до этого очень далеко. Рядом с матушкой я ощутил, что я человек в лучшем случае душевный, а то и вовсе плотский.
Недавно говорил с отцом Исаакием (Андроником)***, он мне заказал кино. Я говорю: «Сымитировать я смогу, но давайте попробуем сделать духовное кино». Получится — дай Бог! Потому что это непредсказуемо.
А опыт имитации, к сожалению, богатый. Видите, как рванул наш православный кинематограф. Имитировать мы научились лихо. Я сам сколько раз попадаюсь — слышу такой левитановский голос за кадром, такая уверенность в нем. Причем бывает, молодые батюшки сидят в кадре и со знанием дела так говорят о жизни, словно всё о ней знают. Мне самому шестой десяток уже, а смотрю и думаю: батюшка, почему ты так уверен, почему ты решил, что знаешь все?
— Но ведь когда люди на камеру исповедуются, рассказывают о своем внутреннем опыте, это может быть не только интересно, но и полезно зрителю. Ведь все пропускаешь через себя в итоге.
— Мы с вами сейчас тоже немного грешим. Потому что почитание Духа требует молчания. А мы поневоле начинаем играть в игру такую: вы мне вопрос — я вам ответ. То же самое возникает и в интервью: когда ставишь камеру, понимаешь, что этим уже человека пригвоздил к стенке, и он, в зависимости от того, как его расположишь, начинает отвечать. На самом деле это взаимная тирания. Как вот из этой фальши выбраться, я не знаю.
— Возможно, нужно не брать интервью, а просто разговаривать? Непринужденно, открыто. И больше слушать, чем спрашивать.
— Знаете, у нас во время съемок «Старца Паисия» так и случилось. Актеры просто разговаривали и импровизировали. Например, Сережа Соколов, который Паисия играл, — актер с большой буквы. Я ему говорю: «Вспомни себя в детстве, представь себя ребенком. И Боже сохрани подумать о какой?то святости!» Мы очень несерьезно, на самом деле, относились к съемкам. Я, по крайней мере, пытался создать ощущение, что все это понарошку, что, может, вообще кино не получится, но зато хорошо время проведем.
Вся моя режиссура в том и состояла, наверно, чтобы всем было удобно, весело, хорошо и сытно в том числе. Вот и всё. А что такое режиссура, я даже не знаю, честно… Камера ведь дура — пишет всё. И, по?моему, если на площадке скучная атмосфера, она это обязательно записывает. А если хорошая…
Я думаю, что достоинство этого кино — хорошая команда, в которой все друг к другу хорошо относятся, любят. В моем случае тут еще масса родственников, включая мою жену, жену оператора, детей… В общем, будет команда — будет и кино. Главное, чтобы у режиссера не было амбиций. Потому что режиссер — это самая ничтожная профессия среди всех остальных. Кто?то играть умеет, тексты знает, кто?то снимать умеет, кто?то светить, кто?то еще что?то. А режиссер ничего не может по большому счету. Это человек, который приседает, бегает перед всеми, шепчет ласковые слова. И всё.
— И всё?
— Иными словами, режиссер без помощи свыше не может ничего сделать. Во время съемок «Старца Паисия» я это очень хорошо осознал. Пришло понимание того, что есть люди, которые могут это сделать лучше тебя, с большим знанием и качественнее, но почему?то они пошли в монахи. Духовный человек не может сфальшивить. Конечно, он может не почувствовать каких?то мирских и душевных вещей, в плотских он может запутаться, но что касается духа… Монашествующих, которые в этом не ошибаются, достаточное количество. Это не панегирик, потому что среди монахов тоже есть разные люди. Но, кто действительно пропитан духом, тот не ошибается. Вот еще одно «таинство», кинематографическое.
— Документальное кино — жанр своеобразный, у него специфический зритель. Когда снимаете, не боитесь, что часть из отснятого пойдет в стол?
— В фильмах слишком много в стол идет. Сейчас, правда, «стола» уже нет — все можно выбросить в интернет. А вот с литературой сложнее: если писать статью раз в квартал — журнал разлетится. Точно так же этот поток, называемый телевидением, требует постоянной съемки. Поэтому если режиссер снимает картину три года (ну, если он не гений), то это любитель…
— А кроме кино чем еще живете?
— Для меня сейчас отрада — детский театр. Я детям постоянно говорю: «Хотите жить для себя? Живите для всех. Для начала хотя бы для театра».
Я обожаю свой театр. Он у меня лучший в мире. Я так и говорю всем. Возможно, вы посчитаете меня нескромным, но так должно быть! Нельзя говорить своему папе, что он не самый лучший, так же как и маме — что она не самая лучшая. А тем более ребенку. У всех дети хорошие, а у меня отвратительные, да? Нехорошо. Поэтому у меня лучший в мире детский театр.
Если в кинематографе я позволяю себе иногда сымитировать, то в театре с детьми это не проходит. Сказать, что они все хорошие, нельзя — разные все, их характеры видны, они не ангелы. Но это настоящие личности! И это самое главное. Действительно, дай мне Бог сил, чтобы вот так впрячься и тянуть дальше. Нашему театру уже скоро два года.
Кинематограф еще чем не хорош: начал кино, прошло какое?то время, и закончил. По сути, ты его бросил. Надо по?новому начинать. Это воспитывает ненадежность. А вот театр…
— …бесконечный процесс…
— …это пока не помрешь. Дай Бог, чтобы у меня хватило терпения и сил (в первую очередь терпения) любить это дальше, до конца, не бросать… Вы сами представляете, что сейчас у нас театр — никто никому ничем не обязан.
Мы репетируем в фойе. Люди туда-сюда ходят, гремят-громыхают, никто никому ничем не платит. Представьте, какой?то родитель придет и скажет: «На тебе миллион, чтобы моя дочка играла у тебя». Не получится! На одной любви только держится все. Они любят, я люблю. У нас уже какие?то даже не дружеские, а «любовные» отношения завязались, именно «любовные». С разными детьми по?разному. Я когда начинал, их вечно по именам путал, а теперь я каждого знаю, каждого люблю. И как только они исчезают, когда болеют, переживаю, думаю о каждом.
— Какого возраста дети?
— От четырех до одиннадцати. Самые интересные — четырехлетние. У нас большая дружная семья. На занятия приходят не только дети, но и родители. Всем интересно. Они не только занимаются театром, но и узнают друг друга. Бывало, выйдет мальчик или девочка на сцену, а ребенок говорить не умеет, двигаться, он зажат, потерян; и видишь, как родитель краснеет за своего ребенка. Проходит месяц-второй, ребенок — один из лучших. Почему? Потому что мама или папа сидели с ним вечером. Вот это другое искусство, настоящее! То есть родители уже заинтересованы. А как они гордятся, что это их ребенок! Поэтому семейность очень важна.
С детьми очень интересно. Я помню, как развесил на столбах объявления, сижу в фойе холодного клуба: такое впечатление, что 1918 год какой?то. Думаю, а вдруг никто не придет. Приходят: кто с папой, кто с мамой, кто с дедушкой. И понеслось-поехало. А сейчас их уже человек 40 представляете?
Единственное, что сложно, как мне кажется, — это когда дети вырастают. Я не знаю, как у меня будет, когда они будут взрослеть, но думаю, что станет сложнее, потому что у меня есть опыт постановки сцен во взрослом театре. Со взрослыми, с одной стороны, проще, а с другой — весь репетиционный период уходит на то, чтобы содрать с актера маску. Ходит такой актер, причитает: «Я — король-любовник», «А я — прима». А у детей нет всего этого.
— Театр и кино в вашем случае как?то взаимодействуют? Когда смотрите на детей, может, приходят какие?то идеи, мысли, вдохновение?
— Мысли простые. Главное — не играть роль, а играться в нее.
— То есть?
— У меня дети не играют, они изображают. С точки зрения профессионального театра это неправильно. Взрослому актеру режиссер говорит: «Сейчас ты у меня проживешь жизнь». Но лично мне не нравится «проживающий» актер, который делает установку: «Сейчас я изображу злодея, вытащу из себя все свои злые качества и совершенно вживую это сделаю». Это меня всегда напрягало. Я с любовью отношусь к Станиславскому и Чехову — это столпы… Но мои дети изображают. С одной стороны, я понимаю, что «приторговываю» их детством, искренностью, наивностью… С другой — они пришли, им хочется играться. Именно не играть в театре, а играться. И они играются. Для них это уже важно теперь. Я им всякий раз предлагаю новые условия игры, и они играют, а не проживают.
— Поучиться у детей есть чему?
— Когда я с ними выхожу на сцену, то понимаю, что я среди них самый плохой артист. Я тоже пытаюсь ничего не играть, но стоит только начать «проживать» по Станиславскому, чувствую, что дети сзади стоят (я каждый раз говорю вступительное и заключительно слово), смотрят и думают: «Врет же всё». Дети непосредственны. Быть такими мы, взрослые, зачастую не умеем.
— Вернемся к кино. Мы помним эффект, который произвел фильм Павла Лунгина ?Остров?. Он собрал больше зрителей, чем передачи в новогоднюю ночь. Это первая картина, которая приходит на ум, когда идет речь о фильмах о монашестве. Интересно Ваше мнение об этом кино. Можно ли его назвать картиной, которая обозначает тенденцию в современном кинематографе?
— Мнение об «Острове»? Оно категорически отрицательное! Я увидел хорошего артиста Мамонова, но не увидел героя-святого. Хотя очень душевно получилось, я пока смотрел, даже пару раз всплакнул. А после того как посмотрел, подумал и «встал на дыбы». Другим нравится? Нравится. Кто?то признавался, что пошел в семинарию исключительно благодаря этому фильму. Почему так, я не знаю. Драматургия там, как по мне, смехотворная, хотя много удачных хороших шуток.
Не дай Бог сохраниться этой тенденции! Кино должно или молчать, или показывать святость иными способами, акцентируя внимание не на чудесности или внешнем благочестии, а на внутренней работе человека.
— Но ведь душевное кино нужно людям?
— Конечно.
— Чтобы просто встрепенуться, увидеть что?то другое, чем то, что видят все вокруг, задуматься и хотя бы повернуться в ту сторону.
— В фильмах, как и в любом искусстве, должна быть жизнь! Мы должны не в игры играть, а жить живой жизнью. Мы хотим, чтобы эту живую жизнь видели остальные, да? Чтобы они тоже жили живой жизнью, особенно дети? Тогда нужно просто жить. Без масок, честно и открыто.
А вот если возвращаться к тому же фильму «Остров»… Ленту «Такси-блюз» помните (опять же, с Мамоновым)? По-моему, с «Островом» вышла похожая ситуация, только теперь Мамонов в подряснике. И драматургия не живая. Я думаю, что отрежь начало и конец фильма — может быть, он стал бы лучше. Зритель, глядя на Анатолия, причитает: вот он так согрешил! А что, разве все остальные грехи не так важны? Кто сказал, что чревоугодие меньший грех, чем убийство? В «Острове» из убийцы сделали святого, притом нереально как?то. Существует множество историй, когда реальные заключенные меняли свою жизнь кардинально. В этом плане «Остров» слаб.
— Вы встречали святых людей в жизни?
— Да, без сомнения. Отец Дамаскин явно святой. Никто его прославлять не будет, но просто смотришь ему в глаза, и сразу видно святость. Каждой клеточкой чувствуешь. Матушка Татьяна, которая сейчас кинематографом занимается. Чтобы это понять, достаточно минуту побыть рядом с такими людьми.
Раньше всех святыми называли. Это мы просто так оскотинились, что теперь все друг другу «гражданин» и «гражданка», а сейчас еще круче стало — «уважаемый»!
Святых я достаточно встречал. Не надо делать из них идолов, чем некоторые сейчас занимаются. Думаю, что Серафим Саровский вообще бы меня клюкой огрел бы тут же, повыбивал бы мне все вставные челюсти. И правильно бы сделал, я был бы рад.

— Со святыми рядом тяжело быть…
— Нет, с ними хорошо. Сидишь, и тебе просто не хочется молоть чепуху, празднословить. Со святыми очень хорошо.
А вот то ощущение святости, которое появляется у них, — это смирение старца Паисия, которое чувствует зритель. Помните? Штатив поломан, и старец даже перед этим смиряется. У него смирение очень развито. Думаю, хорошо, что мы обрусили старца Паисия. Отец Киприан (Ященко) сказал сразу: «Да у нас на Руси каждый сотый батюшка такой». И действительно, если начать искать и узнавать, то убедишься, что это так. Причем, если на Афоне все в затворе сидят, то у нас батюшки открытые. И это не мешает им стяжать святость.
— А какие отзывы о фильме?
— Совершенно противоположные. Я в интернет залез, посмотрел. Весь негатив, который говорят о нашем кино, — это правда. То, что эта картина ученическая, дилетантская, сделанная наспех или копеечная, — все это правда. То, что, видимо, только сумасшедший позволит монахам играть в кадре, — наверное, это тоже так.
Когда говорят что?то хорошее, мне неловко. Потому что кино хорошим быть не может. Это не идеал. Слово «шедевр» раньше означало просто опытный образец какой?то серийной вещи. «Старец Паисий» не является для меня шедевром. Столько компромиссов, на самом деле, в этом фильме. Представляешь, как оно должно быть и как вышло на деле. Это небо и земля — совсем по?разному. Сделать то, что хотелось, никогда не получается.
«Старец Паисий», наверное, не самое плохое кино. Весь монастырь молился, наша команда молилась. Не потому что мы такие молитвенники все. Просто для меня главным было, чтобы держалась хорошая атмосфера на площадке и вне ее.
— Как на жизни актеров сказались съемки в этом фильме?
— Сергей Соколов (старец Паисий) сказал, что на него повлияло это кино. Он очень долго выходил из этого состояния. Он святым совсем не стал. Но его понесло потом — на него искушения посыпались просто. Даниил Усачев (послушник) как?то выровнялся. Он вообще не воцерковленный, а перед съемками в фильме впервые в жизни исповедался. Так что для них это тоже нервный процесс был.
Я не исключаю, что актеры рассчитывали, что после этого фильма ими заинтересуются. Нет, никто не заинтересовался. Если сравнивать, к примеру, жизни фильмов «Остров» и «Старец Паисий», то, по?моему, «Старец» вообще не был замечен. Ему дали приз за сценарий. Хотя я за этот сценарий на том же «Покрове» лет восемь назад получил приз. Потом на двух московских фестивалях он получил награды. Меня даже не было на тех фестивалях.
«Старец Паисий» распространяется из рук в руки. И это совершенно другое движение, оно для меня более важно. Вам позвонили, рассказали, вы посмотрели, сказали другому.
Фильм, во?первых, вызывает недоумение у зрителя, потому что ему поначалу действительно кажется, что это документальное кино. А во?вторых, он не предлагает зрителю игры. Мы делаем зрителя активным участником, сопереживателем действия. Мы сбивали всякий пафос, который только норовил возникнуть.
— Какие фильмы, которые хоть отдаленно можно назвать духовными, Вам лично нравятся? Скажем, из мирового кино? Что Вы считаете сильными работами?
— Духовными? Таких нет, но я помню, как я обрадовался, когда увидел «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Там великолепная драматургическая находка — то, что он взял последний эпизод и поставил его в начало фильма. Вроде «Криминальное чтиво» — плотское кино, и всё о плотском, а при этом как лихо сделано. Я не помню случая, чтобы кто?то ещё так сделал драматургию.
— В этом фильме есть такой эпизод. Два киллера приходят, и в них выпускают в упор огромное количество пуль. В них ничего не попадает. Один говорит: «Я почувствовал Бога, Он есть». После этого он завязывает со своим ремеслом и становится проповедником. А второй не поверил и погиб от случайной пули.
— Режиссер не может быть неверующим. Если даже он заблуждается — это хорошо. Сказать «режиссер-атеист» смешно. Ничего не выйдет у атеиста-режиссера. На собственном опыте убеждался. Почти все советские мэтры кино заканчивали жизнь в Церкви. Это было для меня удивлением еще при советской власти — когда артиста отпевали. Как веровать — это другой вопрос. Это никому не понятно.
— Может быть, как раз если человек все делает искренно, служит своему таланту, если можно так сказать, старается свой талант приумножить, он тогда становится честным не только перед собой.
— Хотел бы уточнить: если человек действительно служит таланту своему. А если человек надувает щеки, а таланта нет? Или служит себе, своей выгоде, искусству, или кинематографу?
— И все же, по?вашему, почему раньше снимали пусть не ?духовные?, но ?душевные?, такие замечательные фильмы, а сейчас они крайне редко появляются на свет?
— Отчасти это было вызвано тем, что Церковь находилась в подполье. А люди?то жаждут Бога, жаждут правды. Вот и пытались это восполнить.
По большому счету, количество верующих что при советской власти, что сейчас — одинаково. Мы, по сути, те же. У нас меняется лексикон, мы начинаем говорить православной терминологией (мы теперь, этих книжек начитавшись, в церковь ходим). Но суть наша не меняется нисколько. К сожалению.
А кино мы делаем не для того, чтобы человек в Бога поверил, а потому что служба такая. Делать другое кино я могу, но служение у меня именно то, которое есть сейчас. Эту службу нужно нести по совести.
— Это служба Богу?
— Не знаю, это только Он скажет. Можно, конечно, обольщаться, говорить, что служим Господу Богу, но на самом деле мы служим своему Я, которое, может быть, еще остается чистым, несмотря на все наши грехи. И лишь Богу выбирать — служить ли нам Ему или нет. Это Он выбирает Себе служителей. А мы просто служим.
** Иона (Черепанов) — епископ Обуховский, викарий Киевской епархии, наместник Свято-Троицкого Ионинского мужского монастыря в Киеве, председатель Синодального отдела по делам молодёжи Украинской Православной Церкви, главный редактор журнала «Отрок.ua».
*** Исаакий (Андроник) — архимандрит, наместник Свято-Покровского Голосеевского мужского монастыря Киева (Голосеевская пустынь).